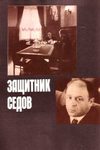По одноименному рассказу Ильи Зверева.
Действие происходит в середине 30-х, во времена сложившейся системы беззаконий. Уступив настояниям родственников осужденных людей, столичный адвокат едет в провинцию, чтобы попытаться предотвратить беззаконие. Как ни странно, ему это удается — вместо тех, кого он спас, расстреливают их обидчиков, а затем пособников осужденных, а затем сообщников пособников. Седов ехал не напрасно — выявлена новая антиправительственная группировка...
Спецприз жюри и приза ФИПРЕССИ МКФ в Мангейме (ФРГ);
Приз Британской киноакадемии за лучший короткометражный фильм 1988 года.
последнее обновление информации: 11.07.24
Фильм, снятый по, увы, забытому сегодня рассказу Ильи Зверева, с самого начала втягивает нас в абсурдную круговерть официальной юриспруденции, кажется, начисто исключающей какое-либо проявление индивидуальной человеческой воли. И все-таки герой в картине есть. Тот самый защитник Седов, чье имя вынесено в заголовок фильма. В реальности его прототипом был адвокат с дореволюционным стажем Владимир Россельс. Как и герой картины, он мужественно пытался приостановить действие судебного механизма, лишь формально основанного на законе. Как это ни парадоксально — благодаря пресловутой букве закона он и победил. Выиграл! Вывел из-под расстрела чудом еще не погибших работников неведомой нам районной ветеринарной конторы, которых нелепо и трагикомично обвинили во вредительстве. {…}
Фактически в фильме три финала. И этот своего рода «каскад» образует в «Защитнике Седове» центр эмоционального притяжения. Первый финал — трагический для Седова, но все-таки предсказуемый. Отважного защитника должны за его дерзость арестовать! И мы видим, как в адвокатскую контору за Седовым приходит группа работников НКВД. Второй финал — как холодный душ и для нас, и для Седова: он — герой, только не для самого себя, а для Большого Прокурора (Всеволод Ларионов играет его, явно намекая на Вышинского), для торжествующей и на этот раз репрессивной машины. Теперь во вредительской деятельности уличены все те, через чьи кабинеты в поисках справедливости прошел Седов. Вот он под громовые овации зала стоит перед нами, растерянный и опустошенный. И звуки аплодисментов, все усиливаясь и нарастая, переводят нас из игровой реальности в реальность документальную. Это третий итог картины. Евгений Цымбал заключил свой фильм хроникой празднования тридцатилетия НКВД. Набитый до отказа зал Большого театра с присутствующими на сцене Сталиным, Ежовым, Хрущевым, Микояном словно расширяет локальные рамки фильма, придавая драматургическому парадоксу, на котором строится фильм, силу фатальной неизбежности. Не может быть выхода у добра, если извращены сами основы человеческого существования. Если жестокость объявлена гуманизмом, беззаконие — законом, а кровавые репрессии — дорогой в светлое будущее. В огне брода нет.
{…} По существу механизм восприятия картины таков, что мы постигаем ее мир через Седова. Идентифицируясь с ним. Вживаясь вместе с ним в чуждое нам бытие. Логически «прокручивая» на его опыте все возможные ходы, позволяющие человеку из сегодня все-таки найти приемлемый вариант существования, не утратив при этом своих принципов. Именно поэтому работа актера Владимира Ильина подчеркнуто рациональна. Именно поэтому режиссера, подробно реконструирующего бытовую среду, не смущает вполне условное — N-ск — определение города, в который направляется для спасения людей Седов.
{…} Режиссер настойчиво сталкивает в картине игровой материал с материалом документальным, вымысел с достоверностью, но вовсе не потому, что наивно рассчитывает «срастить» эти пласты, а потому, что воссоздает на экране откровенную версию «утраченного времени», разгадать которое ни хроника, ни самый фантастический домысел сами по себе не помогут. В огне брода нет. Но должен быть брод к огню.
Вячеслав Шмыров
«Искусство кино», № 9 1989 год
Стр. 40-45
Будем очень признательны за помощь.
- yuriy762 21.03.2023 14:47... Мне удалось отыскать несколько сборников И.Зверева 60-х годов. "Защитника" там не было. Удалось найти только в каком-то издании 90-х. К сожалению, он, тяжело болея, умер в расцвете сил,...
- Володя Туз 11.12.2018 01:02
Фильм интересный, и в отличие от похожих фильмов, и про ту же эпоху Алексея Юрьевича Германа, не так затянут.Прекрасны Ларионов и Сукачёв, неузнаваема Щукина - непревзойдённый мастер ролей "молодых...- Борис Нежданов 31.05.2016 14:50
№ 12 Вихрь (Чувашия). Вики я тоже читал. Скорее всего, повесть входила в какой-нибудь из сборников повестей и рассказов Зверева. Во всяком случае, данных о том, что она была написана "в стол",...- Вихрь 30.05.2016 22:37
... Вполне может быть, в последние годы хрущевщины , наезды на Сталина стали достигать уже перестроечного размаха, хотя в Вики в перечислении библиографии Зверева под 1963-1964 годами нет никакого "Защитника...- Борис Нежданов 30.05.2016 21:31
Насколько я знаю, повесть вышла ещё при Хрущёве, а переиздали её в 1990-м, через два года после выхода фильма.- Всего сообщений на странице обсуждения: 15. Прочитать остальные сообщения и оставить свое вы можете на этой странице
- Володя Туз 11.12.2018 01:02