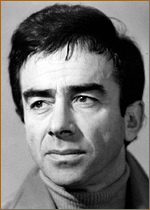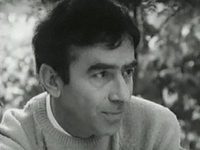Режиссёр и театральный педагог.
Заслуженный деятель искусств РСФСР (27.01.1984).
В 1946 году окончил актёрский факультет Ленинградского театрального института. В студенческие годы у него обнаруживается несмыкание связок — дефект, из-за которого он не может выступать на сцене. Преподавал в Ленинградском Государственном институте театра, музыки и кинематографии (1946-1952, 1956-1989), профессор кафедры режиссуры.
С 1958 года работал с Георгием Товстоноговым.
Ушёл из жизни 2 сентября 1989 года в Ленинграде.
Похоронен под Санкт-Петербургом, в посёлке Комарово.
МДТ
1978 — «Назначение» А. Володина. Художник М. Китаев
Учебный театр ЛГИТМиКа
1979 — «Братья и сестры» по трилогии Ф. Абрамова «Пряслины». Постановка А. Кацмана и Додина. Художник Н. Билибина
1979 — «Если бы, если бы…». Постановка А. Кацмана и Додина.
«Бесплодные усилия любви» У. Шекспира. Постановка А. Кацмана и Л. Додина. Художник Н. Билибина
1983 — «Братья Карамазовы» по Ф. М. Достоевскому. Постановка А. Кацмана, Додина, А. Андреева. Художник Н. Билибина
1983 — «Ах, эти звезды!». Постановка А. Кацмана, Додина и А. Андреева.
- «Ах, эти звезды…»
Четверть века назад ленинградская публика была ошеломлена появлением на нашей сцене Адриано Челентано, Мирей Матье, Джо Дассена, Марлен Дитрих и прочих зарубежных звезд. За их образами скрывались никому тогда неизвестные выпускники Театрального института на Моховой.
Лев Лурье: В ленинградском Театральном институте каждую весну идут выпускные спектакли. В 1979 году прогремел спектакль «Братья и сестры». Его поставили два театральных педагога – Аркадий Кацман и Лев Додин. И вот 1983 год, ещё один выпуск Кацмана и Додина – спектакль «Ах, эти звезды!». Это сенсация не только городского, но и общероссийского масштаба. Вот об этом спектакле и об этом курсе мы сегодня и поговорим.
Аркадий Кацман заканчивает актёрский факультет Ленинградского театрального института в 1946 году. В студенческие годы у него обнаруживается несмыкание связок – дефект, из-за которого он не может выступать на сцене. Но человек он способный, и в институте его оставляют – вторым педагогом. Курс ведёт известный мастер, как правило, это главный режиссёр одного из театров. Времени у него мало, поэтому всю рутинную работу выполняет второй педагог. С 1958 года Аркадий Кацман начинает работать с Георгием Товстоноговым.
Борис Гершт, режиссёр, выпускник ЛГИТМиКа курса Товстоногова и Кацмана: Он никогда не сидел на месте: начинает репетировать – вскакивает, моментально несется на площадку, начинает показывать, руками машет, кричит. Это производило на нас несколько странное впечатление, ведь мы привыкли к спокойному разговору Товстоногова или второго педагога Рехельса.
Товстоногов и Кацман вдвоём образуют замечательную драматическую пару. Георгий Александрович – мэтр, сноб, диктатор. Аркадий Кацман рядом с ним – почти комическая фигура. Они прекрасно друг друга дополняют, и этот союз просуществует до конца их жизни, они даже уйдут из жизни с разницей в два месяца. Положение вечно второго тяготит Кацмана, но и когда Товстоногов даёт ему самостоятельный спектакль на сцене БДТ, все оборачивается анекдотом – во время репетиции Кацман падает в оркестровую яму.Борис Гершт, режиссёр, выпускник ЛГИТМиКа курса Товстоногова и Кацмана: Там была такая старуха-виолончелистка, дама лет за шестьдесят. А ему сорока не было. Он точно попал ей на колени. Бабка его отодвинула, сняла с колен – счастье, что он не убился. Тогда она сказала: «Всю жизнь мечтала, чтобы на меня выпал мужчина, так надо же, выпал Кацман!».
Лев Лурье: К середине 70-х годов Аркадию Кацману за пятьдесят. Он, что называется, широко известен в узких кругах. Это опытный театральный педагог, второй режиссёр, профессионал, но самостоятельного успеха у него никогда не было. И его бурный взлёт начинается с того момента, когда он впервые получает полноценный актёрский курс и берёт к себе вторым педагогом малоизвестного тогда режиссёра Льва Додина.
Лев Додин годится Кацману в сыновья. Это, пожалуй, самый перспективный режиссёр Ленинграда. Дуэт оказывается невероятно удачным. В 1979 году они выпускают со студентами спектакль по прозе Федора Абрамова. Восстановленные впоследствии на сцене Малого драматического театра, «Братья и сестры» принесут мировую славу его создателям, но грандиозный успех сопутствует уже и первой студенческой постановке. Неудивительно, что набирая в том же году следующий курс, Кацман с Додиным ориентируются на удачный предыдущий.Дмитрий Циликин, актёр, театральный критик: Когда получается удачный курс, то следующий курс набирают как бы под эту удачную матрицу. И когда набирали курс «Братьев Карамазовых» в 1979 году, то педагоги смотрели, что это у нас будет Скляр, это у нас будет Акимова, это у нас будет Иванов. И люди должны были попасть в это амплуа.
Аркадий Кацман в конце концов полюбил свой новый курс не меньше прежнего. Он тиранит своих студентов, провоцирует их, заставляет работать день и ночь.
Пётр Семак, народный артист России, лауреат Государственных премий СССР и России: Он в первый раз так нас напугал, когда заявил тут же на уроке: «Простите! Я отказываюсь от курса, я ухожу!» И ушёл. Мы перепугались, потом ездили к нему домой, песни пели под балконом, выпрашивали его вернуться – умолили. Потом он опять ушёл. В общем, дошло уже до анекдота, он так нас все время провоцировал на свершения.
Татьяна Рассказова, заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии России: Он сам верил в превосходство театра вообще над всем, что есть в человеческой жизни, в то, что единственное, чем стоит заниматься в жизни, – это театр. Это единственное, что даёт человеку полную свободу от правительства, от законов.
Аркадий Кацман сумел создать на своём курсе невероятную атмосферу почти религиозного служения Мельпомене. За версту видно, что его студенты занимаются любимым делом и преуспевают в нем. В этот закрытый круг многие мечтают попасть.
Дмитрий Циликин, актёр, театральный критик: Один мой однокурсник, учась у Владимирова, поступил заново к Кацману. Потому что когда мы посмотрели спектакль «Братья и сестры», сразу поняли: то, что делают эти наши как бы соученики по институту, – это театр. А мы занимаемся чем-то не тем, к профессии, к театру отношение имеющим довольно сомнительное.Лев Лурье: В театре вообще есть что-то странное. Это какая-то иная жизнь, напоминающая, может быть, сектантскую. И театральное образование сродни монастырскому – люди как-то должны отказываться от себя, и вот в этой аудитории, созданной Аркадием Кацманом, студенты буквально дневали и ночевали. Кацман, у которого не было своей семьи, сделал из курса какую-то общность, подобную семейной или монашеской.
Дмитрий Рубин, сценарист, автор песен: Он требовал от студентов, чтобы аудитория, в которой мы занимались, содержалась в идеальной чистоте. Любимым занятием Аркадия Иосифовича, кроме репетиций, была уборка нашей аудитории. Должен сказать, что бывали случаи, когда мы чувствовали, что мы не подготовились к занятиям, у нас нет отрывков, которые мы хотим показать Аркадию Иосифовичу. Мы говорили: «Аркадий Иосифович, может быть, займёмся уборкой?». Занятие отменялось, начиналась уборка, которая длилась до поздней ночи.
Лев Лурье: Главным выпускным спектаклем класса Кацмана и Додина считался спектакль по роману Достоевского «Братья Карамазовы» – тяжелейшая вещь, многочасовые ежедневные репетиции. Трёх братьев сыграли три в будущем очень известных артиста, тогда студенты – Морозов, Семак и Леонидов. Это был невероятный успех именно такого додинского, я бы сказал, трагического театра.
Фактически «Братья Карамазовы» – постановка Додина. Кацман работает со студентами в основном на подготовительном этапе, но за время репетиций ему удаётся добиться от студентов невероятного эмоционального возбуждения. Додину остаётся только скорректировать эти эмоции и предать постановке законченность.
Максим Леонидов, музыкант, автор песен: Репетиции происходили на высоком эмоциональном уровне. Он убегал из аудитории, хлопал дверью, я убегал из аудитории, хлопал дверью, он мне кричал: «Максим, вы ведёте себя оскорбительно, так нельзя вести себя с педагогом!».
«Братья Карамазовы» имеют не меньший успех, чем «Братья и сестры». Второй раз за пять лет студенческие постановки Кацмана и Додина прогремели на весь город, затмив многие профессиональные премьеры.
Татьяна Рассказова, заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии России: Был финал, поклон, мы выстраиваемся, все ревём. Зал стоял, весь ревел. Нам несли цветы, это понятно. Мне подарили ещё самодельного зайца, сшитого из каких-то лоскутков, с какой-то трогательной вышитой надписью. Кому-то несли нарисованные открытки, ещё что-то. Это было потрясающе.
Время на дворе смутное. У власти Юрий Андропов. Расслабляться опасно. Все, в том числе городское начальство, понимают, что курс Додина и Кацмана – выдающееся явление. Смущает одно – материал. Достоевский – это тот, о котором Ленин сказал: «архискверный писатель». Поэтому спектакль продержался недолго. Второй же выпускной спектакль курса – «Ах, эти звезды!» – ждала совсем иная судьба.
Максим Леонидов, музыкант, автор песен: Там Додина нет вообще, этот спектакль был слишком жизнерадостным для Льва Абрамовича, жизнеутверждающим, у него ведь трагическое мироощущение, поэтому какие там звезды, к чёртовой бабушке. Это вообще такой попсовый проект, от которого Лев Абрамович открещивался всю жизнь, но Аркадий Иосифович здесь как раз был на коне.
Дмитрий Рубин, сценарист, автор песен: Мне кажется, если бы не было бы «Братьев Карамазовых», то не было бы и «Звёзд». Полтора года мы мучились над «Братьями Карамазовыми», бессонные ночи, мучительные репетиции и, когда все это закончилось, когда мы сыграли премьеру, нам хотелось просто оторваться. И вот это настроение весёлое, бесшабашное и лёгкое, которое мы выплеснули в спектакле «Ах, эти звезды!», появилось благодаря тому, что полтора года мы были в диком напряжении.
Лев Лурье: Что придумал Аркадий Кацман? Это такое, я бы сказал, предвидение гламура за двадцать лет до его появления. Спектакль «Ах, эти звезды!» – это такой неожиданный гибрид студенческого капустника и настоящего бродвейского шоу.
Дмитрий Рубин, сценарист, автор песен: Мы не профессиональные певцы, не профессиональные музыканты, многие пели фальшиво, сложно было все это сыграть, а мы все играли живьём, не было никаких фонограмм. И очень часто раздавались голоса других педагогов и студентов: «Аркадий Иосифович, давайте это бросим, сделаем какой-нибудь водевиль, какую-нибудь лёгкую пьесу без музыки». Тем не менее, Аркадий Иосифович настоял на своём и довёл этот спектакль до конца.
Андрей Дежонов, актёр, режиссёр: Он, конечно, очень смешно переживал первый премьерный день: ходил так по лестнице вверх-вниз Учебного театра и говорил: «Или нас сейчас закидают гнилыми помидорами, или это будет грандиозный успех, просто великий успех». И когда зазвучали первые аплодисменты, причём оглушительные аплодисменты, он успокоился.
Весть о неслыханном студенческом представлении мгновенно облетела весь город. Ничего подобного в стране, руководимой главой КГБ, не было и, казалось, что и быть не могло. Западные звезды зачастую с сомнительной по советским меркам репутацией, мало отличимые от оригиналов, двигались и пели в живую на небольшой сцене Учебного театра.Андрей Дежонов, актёр, режиссёр: Я там играл Жильбера Бико. Это был такой французский шансонье и я, благодаря Леонидову в основном, с ролью все же справился. Хотя, конечно, мне досталось: во-первых, на французском петь, причём на каком-то там странном французском, южном...
Дмитрий Циликин, актёр, театральный критик: Я смотрю на нашу эстраду – этих людей из клуба самодеятельной песни, из КВНа, ещё откуда-то. Они освободились от страха сцены, вылезли на сцену и получают огромные деньги, российскую славу, называются звёздами. Но почти все в спектакле «Ах, эти звезды» умели в сто раз больше.
Лев Лурье: Кто собирал полные залы в 1983 году? Юрий Антонов, Алла Пугачева, Эдита Пьеха. А тут спектакль Учебного театра. Заполненный Большой концертный зал «Октябрьский». Билеты, которые стоят в кассе три рубля, уходят у спекулянтов по пятьдесят. И все равно попасть невозможно.
Грамотные люди из Ленконцерта быстро смекнули, что на студенческой постановке, пользующейся бешеным успехом, можно заработать неплохие деньги. И спектакль стали прокатывать на самых крупных площадках Ленинграда.
Пётр Семак, народный артист России, лауреат Государственных премий СССР и России: Меня избили. Я выскакивал из боковой ложи, и меня просто избили, потому что там темно: вместо шести человек, там уже было человек двадцать, я стал просить пропустить меня. Люди стали меня бить, они решили, что я хочу место получше занять, чтобы было повиднее, и я еле успел на свой номер.
Успех спектакля был даже не общегородским, а всесоюзным. Каждая областная филармония, каждая концертная организация понимали: «Ах, эти звезды» – годовой план, переполненные залы, право распространять дефицитные билеты или спекулировать ими. Грандиозный успех сопутствует даже на родине Утесова, в Одессе.
Пётр Семак, народный артист России, лауреат Государственных премий СССР и России: В Одессе как мы играли, Боже мой! Вышел Коля Павлов, у него тряслись коленки, это было видно, вышел какой-то мальчик Утесова изображать в Одессе! И вот пока он говорил «Вы знаете, где родился джаз», все сидят, одесситы вообще никакой реакции, никто и не понял, что это. Но когда он запел, тут началось!
Беспрецедентный случай – выпускной студенческий спектакль ещё два года живёт полноценной творческой жизнью. В городе вполне мог появиться новый молодой театр, но этого не случилось.Пётр Семак, народный артист России, лауреат Государственных премий СССР и России: Про наш курс ходили слухи, что якобы нас хотят оставить всех в Ленинграде, чтобы значит был новый молодой театр, все чиновники были восхищены и говорили: «Конечно, конечно!». Но никто так палец о палец и не ударил, все так словами и осталось.
1983 год. Курс, который поставил замечательный спектакль «Ах, эти звезды!» распределяют по окончании Театрального института. Осипчук и Семак оказываются в Малом драматическом театре. Морозов, Селезнева, Леонидов – в Большом драматическом. Других выпускников распределяют в Театр комедии, в Театр Ленсовета и другие ленинградские театры.
Максим Леонидов, музыкант, автор песен: Наш театр мог бы существовать, безусловно. Малый драматический ведь существует – это по сути и есть то, чего мы хотели. Счастливы ли люди внутри этого коллектива, вопрос другой, и все ли счастливы, но то, что они счастливы на сцене, я утверждаю, потому что я знаю по себе. В процессе, на сцене, во время репетиций, это невероятно интересно. Все остальное – большой вопрос, тот, кто готов рисковать и жертвовать, тому место там, тот, кто не готов, тому там не место – сто процентов.
Костяк всемирно известной трупы петербургского Малого драматического театра – составляют ученики Кацмана и Додина 1979 и 1983 годов выпуска. Очевидно, что в сокрушительной славе и успехе знаменитого режиссёра Льва Абрамовича Додина немалая доля педагогического труда его старшего коллеги Аркадия Иосифовича Кацмана.Лев Лурье: «Ах, эти звезды» – это такая «Принцесса Турандот» конца советского времени. Аркадий Кацман ушёл из жизни в 1989 году на пике славы, и с тех пор ни в одном театральном ВУЗе страны не было такого выпускного спектакля.
Александр Сбоев:
...Параллельно работе в школе Александр начал заниматься в театральной студии «Синий мост» под руководством Кирилла Леонидовича Датешидзе в ДК им. Володарского. Студией был выпущен спектакль «Самоубийца» по пьесе Николая Эрдмана, запрещенной тогда для постановки на профессиональной сцене – смелый гражданский поступок по меркам начала 1980-х г. В этом спектакле Александр исполнил роль Голощапова. Эту работу увидел и отметил выдающийся театральный педагог А.И. Кацман.«На тот момент я уже прошел консультацию на курс Аркадия Иосифовича Кацмана у Ирины Борисовны Молочевской. И, параллельно, я опять поступал в Москву. Где-то срезался на втором туре, где–то на третьем, а где-то прошел и на третий. А на третьем надо было уже выбирать - где учиться. Либо у нас, либо в Москве. И вот кто-то, к сожалению не помню кто, когда я поступал во школу-студию МХАТ сказал мне тогда: «Вы знаете, Вам нужно на режиссерский поступать, а не на актерский». Мне тогда, семнадцатилетнему, показалось это очень смешным: я - и режиссура! В результате я выбрал Ленинград.» Так, в 1983 году Александр поступил в ЛГИТМИК на курс профессора А.И. Кацмана.
«Аркадий Иосифович… у него вообще была специфическая манера, свойственная тому времени - он практически никогда не хвалил. Очень редко! В основном - ругал. Да и все педагоги нацелены были на это - ругать. Но по природе своей он был очень добрый человек, и поэтому все понимали, что когда он кричит и ругается, то ругается он по делу. К тому же он был очень отходчив и через день уже не помнил, что кого-то «сровнял с землей» и опять относился к тому нормально. Но это все - рабочие моменты. Система тогда такая была, которая, насколько я понимаю, началась еще с Б. Зона. Жестокая система, направленная на «выбивание» из человека его каких-то «личных представлений об Искусстве» и перевод на профессиональные рельсы.
Это сложно, конечно, потому что у каждого из нас - свои представления о театре, о том, КАК надо играть. Поэтому и у меня иногда возникали конфликты с преподавателями. Не с Аркадием Иосифовичем. С другими. Учиться было интересно, но тяжело. Особенно на первых курсах. Это сейчас мы вспоминаем весело, а тогда все были замученные, потому что занятия были по 15 часов, а еще надо было ночью что-то придумать».
После третьего курса Александр ушел в армию. А затем «…я вернулся в институт, но там все уже было по-другому. Это был курс Андрея Дмитриевича Андреева, там была полная демократия, когда никто уже, по большому счету, ничего не делал. Где занятия заканчивались в шесть вечера. Вот тогда я, наконец, почувствовал, что это такое - студенческая жизнь, с весельем, с праздниками, с бездельем … Все было замечательно!»
Окончил ЛГИТМИК в 1989 году. Участвовал в двух выпускных спектаклях курса: «Удалой молодец- гордость Запада» в постановке Д. Астрахана и «Леди Макбет Мценского уезда», режиссером которого был А.Д. Андреев.Алла ПОЛУХИНА (25.02.2012 Не о смешном Кацмане):
«Режиссёр, не имеющий понятие в актёрском мастерстве, так же нужен в театре, как палач в больнице», и «Вы, Аллочка, простите, «чего-то не понимаете в нашем искусстве!»
Как говорится, на этом и порешили! А не нужно мне было хвастаться! Мол, я научена актёрскому мастерству легендарной Верой Павловной Редлих, ученицей Станиславского, я ,мол, была одной из ведущих актрис Рижской русской драмы и так далее…! Я поняла, что поторопилась с «самопиаром» ровно на втором семестре нашего обучения, когда увидела Аркадия Иосифовича на репетиции, уж и не помню какого этюда! На моих глазах наше «святое искусство переживания» слилось с поруганным «искусством представления» и я увидела перед собой гениального артиста!
Аркадий Иосифович Кацман был гениальным артистом утверждала и утверждаю я сейчас, пережив уже лет на десять тогдашнего своего учителя актёрского мастерства. И все «крылатые слова» о том, что жизнь – театр…, о том, что нужно любить искусство в себе…, о том, что цель творчества – самоотдача и даже ницшианское «падающего подтолкни», соткались для меня в образе Кацмана в некую реализованную метафору театра как такового, изначальной, первородной сущностью которого являются – Артисты.
И вечная память Аркадию Иосифовичу Кацману – Артисту и Педагогу – за его удивительных учеников, многие из которых до сих пор вызывают во мне истинное потрясение и восхищение пред магией Театра. И Боже мой, до чего же он был одинок….
- 90-ЛЕТИЕ А. И. КАЦМАНА. ВЕЧЕР В ДОМЕ АКТЕРА
Бывают счастливые вечера. Сегодняшний был счастливым.
22 февраля 2012 года в Доме актера собрался полный зал. Собрался, чтобы вспомнить в день его 90-летия Аркадия Иосифовича Кацмана. А что такое Кацман и «кацманята»? Это самые любимые, те, с кем связано счастье молодости, искусства, начала жизни, набитый битком зал Учебного театра, весна. Это курсы «братьев и сестер», «звезд» и «трех сестер», Чувашская и даргинская студии, режиссеры товстоноговских курсов, где вторым педагогом множество лет был Кацман. У каждого вуза есть что-то, что объединяет, дает радость, вселяет гордость, рождает воспоминания (недаром в зале люди одновременно улыбались и хлюпали носами). Для Моховой последнего исторического периода это объединяющее слово, понятие, знак — Кацман. Его легко и весело вспоминать, в нем не было величия, он был настоящий белый клоун с рыжими крашенными волосами, верил в магическое «если бы» и мог серьезно вспоминать, как был в окопах 41-го, хотя никогда там не был.
В видео-воспоминаниях Валентины Ковель, записанных к его 70-летию, она рассказывает, как к ним на актерский курс, в эвакуированный в Томск институт, пришел Аркаша Кацман. Я уже который раз торможу на этом месте. Дело в том, что в молодые годы мне пришлось заниматься разборкой институтского архива, и тогда мы очень много общались с Аркадием Иосифовичем. И он совершенно достоверно рассказывал мне, как во время войны эвакуировался с институтом на Кавказ, как они бежали из станицы Горячеводской, которую должны были занять немцы, и как закапывали по пути, устав от тяжести, институтский архив… Это было убедительно, художественно и впечатляюще. А Ковель говорит про Томск. Может быть, и Горячеводская была его «1941-м?»…
«Где твои 17 лет? Здесь, на Моховой!» — пели похожие на себя образца 1979 года «кацманята», а каждый вспоминал не только их, но и свою «дорогую Моховую», на которой стоял у Жигулей-”семерки” неуемный Аркадий Иосифович. У каждого курса связано с ним множество трагикомических эпизодов, и только ленивый не пародирует его горячую манеру говорить (вообще, стать предметом пародий — мечта любого педагога!), при этом в сегодняшнем вечере была (свойственная и Кацману!) патетическая нота. Он вселял в ребят не только веру — «нам каплю солнышка глотнуть, и мы опять начнем сначала» — он давал им спасительный профессионализм.
Никто не умел так набирать и выпускать звезд, никто не был одновременно так наивен, смешон, элегантен и истов. Он любил людей, любил студентов, поток жизни. Может быть, поэтому часто стоял после занятий у дверей института, горячо, экзальтированно, озабоченно обсуждая то с одним, то с другим беды и радости театрального дела. Кипятился, негодовал, доказывал, восторгался.
Нет, определенно и странно, но он и сейчас не покинул наших пределов, «Кацмана на вас не хватает» — до сих пор говорят мастера студентам, засвидетельствовал Валерий Николаевич Галендеев, замечательный ведущий вечера (вторым был Михаил Морозов). Замечательно, впрочем, выступали почти все — от Андрея Дмитриевича Андреева (я никогда не слышала такого вдохновенного и остроумного его выступления) до Исаака Романовича Штокбанта и Романа Смирнова, от Вениамина Михайловича Фильштинского, «унаследовавшего» последний недоученный кацмановский курс и легендарную 51-ю, до Ларисы Малеванной, Льва Абрамовича Додина. Представьте, приехали «те самые» чуваши, изумительно пел Владимир Бурмисторов…
Потому что Кацман вдохновляет!
Он гордился своими учениками, желая им одного — трудной счастливой жизни в театре. Когда Учебный театр прощался с ним, его последний курс, курс «кацманят», отплакав Учителя, поднял вверх колокол, звон которого собирал на уроки кацмановских студентов, — и проводил этим звоном в последний путь человека, который не давал покоя ни себе, ни другим. С уходом Аркадия Иосифовича институт потерял грань художественности. Кацман был живым свидетельством того, что мы — вуз художественный, не технологический, не политехнический, мы растим художников. В его рассуждениях о миссии театра было что-то страшно наивное, детское и замечательное.
Кацман был человеком художественным, и как всякий художественный образ, обладал массой каких-то любопытных, пртиворечивых, жутких, смешных черт. И в институте к нему относились как к чему-то художественному: его обусуждали как художественное произведение, им возмущались и восторгались как художественым произведением. Его до самого конца звали Аркадием. Аркадий — это тоже образ, есть педагог А. И. Кацман, а есть образ «Аркадий». Я не знаю, кто еще в институте вызывал такое бурление эмоций.
Я никогда не училась у Кацмана, не имела никакого отношения к факультету драматического искусства, но когда начала заниматься театральной критикой, он, как человек необычайно азартный и интересовавшийся всем, что происходит в институте, стал и меня ловить за рукав и спрашивать, что мне понравилось или не понравилось. Общение наше протекало в основном на Моховой, в подворотнях, в институтских коридорах. — Простите, вы кто? Что вы здесь делаете? — обычно останавливал он знакомого. И приходилось подхватывать игру, придумывая, кто на сей раз и почему оказался здесь: в институте ли, в СТД, в театре… Пока в институте был Аркадий Иосифович Кацман, у всех, кто жил на Моховой, была надежда на праздник, на триумф, на неожиданность, на счастье. Сейчас я не знаю, какой еще педагог и какой курс может подарить институту ожидание того, что совершится чудо: будет такой замечательный момент, когда выйдут на сцену мальчики и девочки в черных одеждах, а мы будем знать, что вышло будущее театра.
А «прошлое в настоящем» выходило сегодня на сцену Дома актера. Лет десять назад, когда Кацману было 80, «ПТЖ» (еще в № 3 опубликовавший материалы о школе Кацмана под названием «Аркадия Аркадия») собрал «кацманят» в «Бродячей собаке». Мы славно посидели тогда, еще были живы А. Чабан и С. Бехтерев (хотя и не пришел), еще лились слезы по несостоявшимся судьбам. Теперь слезы высохли, в сегодняшнем вечере не было печали о несбывшемся. «Где твои 17 лет? Здесь, на Моховой».
… и меня мучит только один вопрос. Когда мы учились, мы точно знали: наш институт прекрасен, мастера — лучшие. Сегодняшние студенты чувствуют то же? Если нет, надо срочно хватать за руки входящих в дверь Академии людей и спрашивать:
— Простите, вы кто? Что вы здесь делаете?
Будем очень признательны за помощь.
- Николай Ващилин 20.12.2015 13:23Боже мой, какая удача! Нашёл страничку Аркадия Иосифовича Кацмана! Низкий поклон создателям! И целый рой его учеников.....И частичка моего труда в них есть....Максим,Петя....Как в сказке, вернулся...
- Всего сообщений на странице обсуждения: 1. Свое сообщение Вы можете оставить на этой странице